
Книга эссе «Перед лицом катастрофы», вышедшая под редакцией профессора культурной и интеллектуальной истории России Рурского университета (Бохум) Николая Плотникова в немецком издательстве LIT Verlag, стала одной из первых попыток дать философское определение ситуации войны и очертить границы связанной с ней проблематики вины и ответственности.
В интервью из цикла «Есть смысл» T-invariant спросил Николая Плотникова, как эта ситуация влияет на состояние его дисциплины и может ли философ в России быть свободен от госзаказа.
T-invariant: Философский язык — это самый чувствительный из научных языков к любым историческим изменениям. Он, собственно, имеет свойство иногда их порождать… Как ситуация, сложившаяся после 24 февраля отразилась на вашей дисциплине?
Николай Плотников: Наверное, я буду не первым по счету, кто вам расскажет, что с наукой в целом, и особенно с гуманитарными науками после начала войны дела обстоят очень плохо. Прежде всего, потому, что наиболее молодой и активный слой ученых, которые в последние полтора десятилетия приняли участие в создании интернационально признанной гуманитарной науки, науки «по гамбургскому счету», оказался очень малочисленным и при этом совершенно не защищенным от властного произвола внутри и вне академии.
T-i: С чем это связано?
НП: С тем, как развивалась гуманитарная наука в постсоветское тридцатилетие, когда вместо создания условий для научной конкуренции ресурсы закачивались в очень ограниченное число новых элитных институций, которым отводилась роль флагманов научного обновления, а все остальные академические структуры были практически предоставлены самим себе. Сначала такой элитной структурой был Российский Государственный Гуманитарный Университет, который в первое десятилетие стал мотором инноваций в гуманитарных науках. И он смог за короткое время благодаря привлечению внушительных финансовых ресурсов государства аккумулировать значительные интеллектуальные силы, которые смогли дать мощный импульс научному развитию. Но когда у него возникли конфликты с новым (путинским) режимом, у университета отняли этот элитный статус и почти никто из представителей других академических институций не встал на его защиту. И эта история повторялась на моей памяти, кажется, трижды — после РГГУ, с Европейским университетом или Высшей школой экономики. Сначала они становились (назначались) избранными элитными учреждениями и в них начинали перетекать активные научные силы. Но потом по разным причинам, в том числе и потому, что эти научные силы начинали требовать больше академических и публичных свобод, эти учреждения подвергались разгрому, а все остальные представители академии безучастно смотрели на это со стороны.
На какой-то короткий период времени в этих элитных институциях формировалась высококвалифицированная научная среда. Она была активна не только в силу принуждения (существовало монетарное принуждение за счет надбавок за публикации и тому подобное), а потому что это были ученые, систематически связанные с международной наукой, встроенные в нее.
Но поскольку таких институций было крайне мало, и они сами охотно подчеркивали свой элитарный характер, то оказалось, что их довольно легко разрушить. А после начала полномасштабной войны значительная часть этих ученых, ориентированных на мировую науку, покинули Россию. Они сейчас предпринимают попытки организоваться заново в Европе и США в виде проектных центров, ассоциаций ученых или новых образовательных учреждений, чтобы продолжить и дальше заниматься наукой. Но думаю, что большинство этих ученых постепенно интегрируются в поле западной академической деятельности. Для науки в целом они, конечно, не будут утрачены. Наоборот, благодаря своим публикациям на английском, на немецком, на французском они будут более активно восприняты международным научным сообществом. Но это уже будет не российская наука.
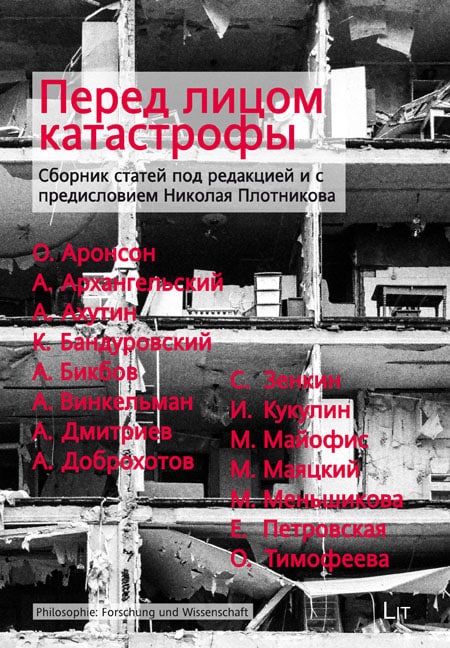
Перед лицом катастрофы: Сб. статей / под ред. и с предисл. Николая Плотникова. LIT Verlag – Berlin – Münster – Wien – Zürich – London, 2023. – 181 с.
T-i: Вы затронули очень важный сюжет. Он касается институций. Когда смотришь назад, возникает ощущение, что у каждого десятилетия есть своя институция, где локализована «вся» наука, где собираются условные «все» — такой центр гуманитаристики. Сначала это РГГУ, потом Вышка, Европейский, Шанинка… Конечно, когда практически все главные представители одной области знания (гуманитарной) собираются в одном месте, это создает плотность среды, дает накопительный эффект. Но все-таки Россия — страна немаленькая. И представить себе ситуацию в Америке, например, чтобы некие «все» собрались в каком-то одном университете, предположим, в Гарварде, и потом в полном составе перетекли в другой университет — такое возможно ли? А в России это, похоже, обычная история, в том числе и в исторической перспективе.
НП: Да, надо признать, что слой гуманитарно-научной элиты в России всегда был катастрофически мал. Особенно, если говорить о философии. Конечно, существовало огромное число преподавателей философии по всей стране, но все это были идеологические работники, занимавшиеся в советское время партийной пропагандой, а в постсоветское время быстро переключившиеся на конъюнктурные дисциплины: политологию, культурологию, религиоведение. В этой ситуации критерии того, что такое научное исследование в философии, просто не могли отчетливо сформироваться. Поэтому число академических ученых, занимающихся философией и способных работать в интернациональной науке, чрезвычайно невелико. Думаю, это не больше нескольких десятков. Именно поэтому, кстати, в России и процветает идеология «самобытной русской философии», которая вся построена на том, чтобы отгородиться от научного мира тезисами об особости русской мысли, которые позволяют игнорировать общепринятые стандарты научности.
Другой момент связан со структурой культурного пространства. Оно в очень сильной степени централизованно. Дело не только в географической ориентации на Москву, но и в ориентации на незыблемый канон, воплощенный в небольшом числе культовых авторов.
Такой культ одиноких гениев царит ведь не только в понимании литературы, но и в поле гуманитарной науки. Здесь есть такая же фиксация на каких-то недосягаемых вершинах, которые творят из ничто великие идеи. Такая модель была положена даже в основу образовательной практики: например, в РГГУ в 90-е годы активно продвигалась идея «авторских курсов», которые обязательно должны читать выдающиеся ученые. Считалось, что студентам должна передаваться при этом частичка ауры великого ученого, а не научная программа или метод работы с материалом, методология и т.п.
Особенно в философии стало господствовать убеждение (отчасти в виде реакции на советскую идею «единства партийности и научности»), что мысль творят яркие индивидуальности, и это убеждение выразилось в постсоветских философских культах: Мамардашвили, Подороги, а также Лосева, Флоренского и многих других… Представление о том, что философ — это одинокий гений, возвещающий миру свои идеи, легло в основание философской картины мира конца 1990-х — начала 2000-х. Отсюда и способ написания истории философии, сводивший всю историю мысли к биографии мыслителя. Этот способ только в недавнее время начали преодолевать, благодаря распространению аналитической философии, а также новых подходов в интеллектуальной истории.
T-i: Такие местночтимые гуманитарные культы? Можно тут перечислить еще культ Бахтина, культ Лотмана…
НП: С Лотманом сложнее, потому что Лотман по своему габитусу и мировоззрению — прежде всего ученый, представитель строгой науки, ориентированной на научное сообщество и культуру аргументации. И к тому же создатель мощной научной школы. Но в рамках постсоветской культурологии действительно можно было наблюдать и культ Лотмана. А в области философии такие культы просто расцвели, причем ведь это еще считалось и образцом философской работы — вслушиваться в мысли гения и приобщаться его ауре. В случае с Мамардашвили это имело буквальный смысл: рассказы о его философии не могли обойтись без упоминания трубки, которую он курил, свитера, который он носил на лекциях, и того впечатления концентрированной гениальности, которое он производил на слушателей. Но по этой же модели возникали образы и других культовых мыслителей — В. Подороги, М. Рыклина. Думаю, и эпидемическое влияние М. Хайдеггера на постсоветскую мысль связано с этим же феноменом поисков нового философского культа.
Но характерно, что такая модель культового автора не является, по существу, академической. Это распространенный медийный образ учителя мудрости. Такими культовыми авторами выступают, например, Жижек или Слотердайк. Не случайно ведь, что в российской академии они и считаются главными философами современности.
Но в последнее десятилетие гуманитарно-научное поле в российской академии стало трансформироваться в направлении ухода от этого культа гениев в сторону научного исследования, проблемного анализа и внимания к собственной методологии. Это как раз и связано с тем, что наука становилась более глобализированной и более соответствующей критериям научной рациональности.
Что из всего этого останется в российской науке после 24 февраля? Сказать сложно. Вероятно, возникнет ситуация очень похожая на ту, что происходила в 20-е годы ХХ века – с отъездом ведущих ученых, писателей и художников, постепенным разрывом всех связей и угасанием гуманитарной мысли. Конечно, и после революции в СССР возникали инициативы, пытавшиеся интегрировать научные силы. Вроде той же Академии художественных наук (ГАХН), где возникла некая ниша, в которую стали стягиваться интеллектуалы. Но мы знаем печальный конец ГАХН — тогдашней власти (как и нынешней) не нужны были независимые гуманитарные исследования, а только демонстрация лояльности. Когда выяснилось, что для науки требуется пространство свободной дискуссии, Академия была подвергнута репрессиям и разгромлена. Но в контексте нашего разговора важно отметить, что в ГАХН, вероятно, в последний раз в советское время была предпринята попытка создания самостоятельной философии культуры, которая сразу стала восприниматься как альтернатива и конкуренция идеологическому марксизму. Когда ГАХН ликвидировали, то большинство оставшихся ученых стали активно открещиваться от философии и подчеркивать свою связь со специальным знанием. Даже философы (Лосев, Жинкин, Габричевский) уходили в классическую филологию, психологию, лингвистику, историю искусства. Так казалось возможным продолжать заниматься наукой, не вступая в регулярный конфликт с идеологическим аппаратом. Но для всех советских гуманитарных наук это было равносильно практически полному отказу от всякой гуманитарной теории, поскольку любая теория, претендующая на общую интерпретацию мира культуры и истории, сразу воспринималась как идеологическая конкуренция официальной советской доктрине и подвергалась преследованиям. Поэтому уход в специальные научные дисциплины, не вызывающие вопросов со стороны власти, был основной формой выживания гуманитарных наук, альтернативой которому было лишь более или менее активное сотрудничество с официальной советской идеологией. Все три постсоветских десятилетия ушли на то, чтобы эти установки, полностью усвоенные учеными, были преодолены, и была снова осознана ценность гуманитарно-научной теории.
Многие говорят, что сейчас не может повториться эта советская модель коммуникации науки и власти, в силу совершенной идеологической всеядности режима, которому не нужна никакая систематизированная идеология.
Cейчас, в эпоху фрагментированной публичной сферы и телеграм-каналов, возможно, и не нужны организованные идеологические аппараты, чтобы добиться эффекта идеологического послушания.
При этом власть все равно нуждается в общей рамке интерпретации действительности, чтобы эффективно осуществлять политическую коммуникацию. Поэтому сейчас возникают какие-то новые фантомные идеологические проекты вроде «Основ российской государственности», пропаганды «традиционных ценностей» или поиска «ДНК России». Все, кто не подчинится этой идеологической линии и не выразит ей поддержку, вынуждены будут вообще отказаться от какого-то внятного теоретического высказывания. Потому что говорить сейчас в России открыто о политической философии, теории медиа, гендерной теории или проблемах исторической памяти, умалчивая о происходящем перед глазами, это значит сознательно отказываться от критического мышления.
T-i: Привычка государства рассматривать философию как инструмент и теперь никуда не делась. Хотя в 90-е и даже 2000-е годы казалось, что научный коммунизм и все, что с ним связано, остались в прошлом, что это больше не вернется, что философия наконец-то может стать собой. И вдруг — новый виток. Вся эта история с идеологическими атаками на Институт философии РАН, с попыткой смены руководства там и с новыми «госзаказами» философам — с чем это связано? Может ли философ спокойно работать и не быть ангажированным этим всем? Может ли философ в России быть свободен от госзаказа?
НП: Действительно, сейчас вновь появилось достаточное число людей, которые пытаются создать новую идеологию, придав ей философскую легитимность. Инициатором выступает даже не столько власть, сколько идеологические группы, которые пытаются захватить контроль в академической среде.
Группы, связанные, например, с Зиновьевским клубом, с Дугиным и Малофеевым, стремятся к власти внутри академического пространства, чтобы легитимировать внутри академии идеологический язык войны и антизападной риторики.
В данном случае речь идет о своего рода частно-государственном партнерстве. С одной стороны, имеется активность этих групп, стремящихся к расширению своего влияния, а с другой стороны, власть сама ищет тот идеологический язык, на котором можно было бы объяснить происходящее и оправдать свои решения. За двадцать лет путинского режима этот язык кардинальным образом изменился. Сначала ведь речь шла о движении в направлении к Западу, об укреплении правового государства и о «диктатуре закона». В своих речах ранний Путин цитировал либеральных политических философов, например российско-польского философа права начала ХХ в. Льва Петражицкого. Но позднее, в 2010-е гг., риторика власти смещается в направлении симбиоза социального патернализма и национализма. И идеологические группы, что пытаются захватить власть в Институте философии и университетах, учитывают этот дрейф, ожидая нового госзаказа в виде академических грантовых программ, вроде программы «ДНК России».
В этом смысле неверно считать, что научные институции всегда выступают в качестве объекта и жертвы, а власть всегда является субъектом идеологического контроля. Нет, здесь происходит некое взаимодействие. Философия — одно из полей такого взаимодействия, но имеющее иной статус, нежели другие гуманитарные науки. Власти необходим язык публичной коммуникации. В этом языке должны быть сформулированы основные понятия политической идентичности людей: гражданства, солидарности, справедливости — причем не только для населения, но и для самих властных структур, поскольку эти понятия формируют и содержание властных целеполаганий. Отсюда и интерес к общественно-политическому дискурсу, и в том числе к философскому дискурсу, к философским понятиям. Так осуществляется связь философии с политикой, с политическим вообще. Это ответ на вопрос, почему философия оказывается в роли, с одной стороны, идеологического консалтинга власти, а с другой стороны — самостоятельной академической дисциплины. Это не отличительное свойство именно советской системы. Так происходит практически везде. Начиная с Платона и его (неудачных) попыток общения с тиранами.
Российская специфика тут в том, что философия как самостоятельная академическая дисциплина была в России очень слабо развита. У нее не было институционального хребта, который бы позволял ей противостоять натиску внешних воздействий.
С одной стороны — воздействию со стороны публичной сферы, которая тоже диктовала философии свою повестку. В XIX и ХХ вв. — в виде «философии толстых журналов» радикальной или консервативной интеллигенции. А сейчас — в виде медиасреды, которая предъявляет к философии и гуманитарным наукам свои требования. С другой стороны, у философии не было сил противостоять воздействию власти с ее запросом на производство идеологического языка, на котором можно было бы эффективно осуществлять политическую коммуникацию. У философии в России никогда не было автономного статуса, который позволял бы ей занимать критическую дистанцию по отношению к власти и обществу. И сейчас снова хлынул поток идеологического философствования, противостоять которому академия не в состоянии, а философия оказывается наименее устойчивой из всех гуманитарных дисциплин. Она, как мы видим сейчас, подвергается особенно жестким репрессиям из всех гуманитарных наук именно как дисциплина. Но она, по моему впечатлению, и в большей степени конформна существующему режиму.
Это возвращает нас к вашему наблюдению о научном коммунизме. Тем, кто активно участвовал в развитии научной философии в последние три десятилетия, действительно казалось, что все это идеологизированное философствование постепенно уходит в прошлое. Но уже к середине 2000-х годов становится ясно, что поле активной мысли, ориентированной на универсальную философскую повестку, образует узкий слой людей, сосредоточенных в небольшом количестве новых институций. А большинство, напротив, состоит из бывших преподавателей научного коммунизма, для которых националистически-коммунистический ресентимент, воспроизводство советских догм и соединение их с имперским дореволюционным наследием стали основным содержанием их работы.
Интересно, что большой запрос на дореволюционную и русскую эмигрантскую философию, которая воспринималась как альтернатива коммунистической идеологии, сыграл роль мотора интеллектуального обновления в период поздней перестройки. К тому же знание об этой философии приходило к нам с Запада — из эмигрантской и советологической литературы. Казалось, что в силу этого можно говорить о философии как об универсальном дискурсивном поле проблем. Но эти тексты «Из истории отечественной философской мысли» (так называлась серия книг русских философов, начатая по решению ЦК КПСС в поздние 1980-е гг.) оказались довольно сомнительным материалом, который в большей степени годится для нужд коммунистическо-патриархальной идеологии, нежели для работы с философскими проблемами. Очень скоро русская философия была втянута в поле национально-консервативного идеологического дискурса, который и стал доминирующим в российской постсоветской академии.
При этом как раз бывшие преподаватели научного коммунизма и исторического материализма становились специалистами по евразийству, по русскому консерватизму и идеологии особого пути России. Они-то и начали озвучивать ту смесь национально-консервативного, религиозного и антизападного дискурса, которая в 2010-е гг. стала определять политическую риторику путинского режима.
Поэтому для деструкции оснований этого идеологического режима необходим и радикальный пересмотр наследия русской философии в целом.
T-i: А в каком смысле это «пересмотр»? Смена поля исследований с русистики на украинистику, например?
НП: Во-первых, специалистов по украинистике все еще очень мало. Даже здесь, в Германии, где славистика развивалась независимо от российского имперского дискурса, специалистов по истории украинской литературы и культуры единицы. А по интеллектуальной истории и того меньше. Тем больший интерес вызывают исследовательские и издательские проекты, посвященные философии в Украине в контексте формирования европейской идентичности, например Михаила Минакова или Константина Сигова.
Во-вторых, простая замена русистики украинистикой заключает в себе в области философии еще и ту опасность, что мы снова воспроизводим модель особой национальной философии, которая уже в отношении исследований русской философии доказала свою несостоятельность.
Если говорить о пересмотре, то нужно преодолевать идею национально-культурной однородности в философии и исследовать разрывы традиции, сломы канона, процессы трансфера и перевода с одного языка на другой, семантические сдвиги и сдвиги проблем. Одним словом, нужно изучать процессы дифференциации мысли, показывая, как философия существовала в разных языковых и интеллектуальных пространствах. И не важно, как она будет при этом называться — русской, украинской или польской. Здесь уместно говорить, используя заглавие одной из поздних книг Юрия Лотмана, — о плюрализме «мыслящих миров». Вот изучение этого плюрализма мыслящих миров в истории всей восточно-европейской мысли — важнейшая задача, которая станет условием интеллектуального обновления в философии. Нужно создавать новую картографию мысли, которая не ограничивается лишь Москвой и Петербургом, но включает в рассмотрение Киев, Варшаву, Прагу и другие центры интеллектуального трансфера, которые в силу москво- и петербургоцентричности не попадали в поле зрения исследователей. И это, мне кажется, должно быть направлением будущей работы в отношении всего поля восточно-европейской интеллектуальной истории.
T-i: Модель, которую вы обрисовали, основана на логике переосмысления русского материала. Но сейчас чаще работает иная логика, основанная на экстраполяции критической работы, которую проделала послевоенная философская мысль (Адорно, Ясперс и другие), на современную ситуацию: вскрыть в русском языке, в русской культуре то, что привело к агрессии и породило поддерживающую ее идеологию «рашизма», назвать это «имперством» и подвергнуть кэнселлингу. Кажется, что можно просто отбросить старое и заняться выработкой нового языка (языков), созданием новой культуры. Насколько мы можем так мыслить и действовать в том состоянии общества, которое мы сейчас имеем?
НП: Ну, во-первых, война еще не закончилась. Поэтому мы еще не находимся в той точке, в которой могут появиться тексты, аналогичные послевоенным работам о немецкой вине. Чтобы возникла точка приложения философской рефлексии, должна открыться возможность ретроспективно взглянуть на весь процесс. Мы же пока находимся внутри него. Во-вторых, в этом проецировании на себя чужих образцов снова заметна фиксация на некие культовые фигуры. Сейчас все ссылаются на Ясперса и на его книгу «Вопрос о вине», потому что она есть на русском языке в старом переводе Соломона Апта и сейчас заново перепечатана. Но при этом совсем не обсуждается ни юридический, ни политический контекст возникновения этой книги в Германии. И совсем не обращают внимания на целый спектр самых разных философских интерпретаций проблемы ответственности, вины, стыда, не говоря уже об осмыслении культурных и политических факторов, приведших к немецкой катастрофе. В этом спектре существует большое число ярких философских текстов. Например, книга философа и антрополога Гельмута Плеснера «Запоздавшая нация», анализирующая интеллектуальные причины возникновения национал-социализма. Плеснер переводит разговор из плоскости обсуждения вины и обвинения в плоскость философско-исторического анализа, видя эти причины в отказе от принципов эпохи Просвещения. Эта же тема развивается в другой знаменитой книге, возникшей в конце Второй мировой войны, — в «Диалектике просвещения» Адорно и Хоркхаймера, которые тоже ищут ответ на вопрос, как стало возможным, что европейская цивилизация утонула в новом потоке варварства. «Диалектика просвещения» — это один из ключевых текстов для понимания того как происходила критическая рефлексия немецкой катастрофы. При этом ведь Адорно и Хоркхаймер не сводят всю проблему к фигуре Гитлера или к вине немецкого народа. Они реконструируют ту общую структуру, что обнаруживается в феноменах фашизма, антисемитизма, авторитаризма, национальной исключительности, и обозначают ее как «инструментальный разум», который превращает людей в материал и средство для достижения собственных целей.
Вот эта идея социальной критики разума стала базовой для осмысления последствий немецкой катастрофы в интеллектуальной истории Западной Германии. Наряду с критикой языка у позднего Витгенштейна и Хабермаса, и позднее — критикой дискурса и власти Фуко. Этими именами я обозначаю контуры критической работы с прошлым, которая происходила в послевоенной Германии многие десятилетия. Это было не открытие забытых имен или какое-то апологетическое отношение ко всему запрещенному, как у нас в Перестройку, а поиск категорий для критического осмысления собственного прошлого.
Вот такой работы чрезвычайно не хватало в постсоветский период, как исследовательской, так и просветительской. Только «Мемориал» и связанные с ним ученые вели огромную историческую работу, реконструировали факты, узнавали правду о преступлениях и искали следы жертв. Но критическая философская работа с памятью и прошлым не только советским, но и с досоветским проделана не была.
T-i: Получается странная картина. С одной стороны, все 90-е прошли под знаменем постмодернизма, освоения постмодернистской философии, корни которой — в той критической традиции, о которой вы говорите, а с другой — это, по вашим словам, никак не отразилось на состоянии дел, не привело к критической работе с интеллектуальной традицией. Почему? Что было не так с русским постмодернизмом?
НП: Вопрос в том, о чем именно мы говорим, когда мы говорим о постмодернизме и деконструкции. Для Деррида, стоявшего у истоков этого подхода, было совершенно ясно, что речь идет о деконструкции европейской традиции в широком смысле слова, с ее диктатом слова и логоцентризма. Это был разговор о собственной традиции и о ее слепых пятнах, т.е. это был способ философской саморефлексии. В России же это было воспринято как деконструкция западного рационализма и стало сочетаться с традиционно русской критикой Запада. Получалось, что деконструкцию заимствовали, а при этом самое главное условие этого подхода: обращение его на себя, работу со своей традицией и с ее слепыми пятнами — оказалось вытесненным. Были, конечно, исключения. Я имею в виду теоретические труды Сергея Зенкина. Надо упомянуть также о поздних трудах Валерия Подороги, который начал эту критическую работу с традицией, который стал говорить об этической проблематике Гулага и об антропологических проблемах российской культурной традиции. Хотя эти труды были даже достаточно влиятельны, они не создали исследовательской повестки. Их, по-моему, никто толком и не прочитал. Вокруг Подороги был создан некий культ, что не способствовало восприятию его как мыслителя, с которым можно и нужно спорить и который формулирует проблемы и предлагает критические ходы мысли.
В этом смысле, мне кажется, что критической работы с традицией до сих пор проделано не было. Она только-только начиналась в последние годы с приходом нового поколения исследователей в науку. А теперь все снова сворачивает на новую идеологию особого пути и апологетику русского, которая в принципе не в состоянии задать критические вопросы собственной традиции.
T-i: Еще в 2000-е, когда я брала у него интервью, Подорога сказал, что сейчас главная тема — это тема ресентимента. Только теперь становится понятно, насколько он был прав. В текущей ситуации ресентимент — и вы пишете об этом в сборнике «Перед лицом катастрофы» — оказался действенной политической силой. Можно ли сказать, что ресентимент победил?
НП: Да, кажется, Михаилу Ямпольскому принадлежит крылатая фраза о России, как «стране победившего ресентимента». Об этом писали многие аналитики постсоветского сознания в России, в том числе и Подорога. Я согласен с ними, что для понимания происходящей катастрофы важно учитывать последствия того психо-социального и морального комплекса, который Ницше обозначил французским словом «ресентимент».
Ресентимент не только как эмоциональная реакция, но и как набор поведенческих схем, социальных техник и ценностных установок основан на господстве прошлого над настоящим, которое блокирует сознание реальности и конструирует собственный мир, сотканный из обиды, ностальгических мифов, фобий, вражды, жажды мести и чувства несправедливости.
Нельзя сказать, что это такая национальная психология. Но в 2000-е годы путинский режим стал использовать энергию общественного недовольства, направляя его и придавая ему политическую и этическую легитимацию в виде антизападного ресентимента.
T-i: На российской публичной философской сцене сейчас отчетливо просматривается противостояние либеральной мысли в разных ее изводах и новой левой мысли. Иногда это противостояние выглядит как поколенческое, где левые идеи исповедуются более молодыми. Насколько тот поворот левой мысли, который мы сейчас видим в пространстве русского языка, способен к проведению той критической работы, о которой мы говорим? Насколько это новое левое течение способно проработать ситуацию современной катастрофы?
НП: Это очень важный вопрос и очень сложный. Потому что, на мой взгляд, как раз одна из самых главных проблем в постсоветской России заключается в том, что здесь не сформировалась критическая левая мысль. Вся левая мысль была выстроена в формате ностальгии по советскому.
Конечно, и в западном левом движении было много интеллектуалов и еще достаточно остается сегодня, которые идеализировали советский режим как царство социальной справедливости. Но на Западе очень рано сформировалась парадигма критического и демократического социализма, представители которого не питали иллюзий относительно советского государственного террора. Немецкие социалисты от Карла Каутского до Розы Люксембург отчетливо говорили о том, что ленинско-сталинский режим представляет собой угрозу для человеческой свободы. В российском левом движении эта парадигма не сформировалось. Это мы могли наблюдать в массивной поддержке ведущими российскими левыми «русской весны», оккупации Крыма и Востока Украины. Антизападный и антиамериканский ресентимент заглушил в их сознании всякое понимание связи справедливости и свободы.
Российские левые попадают в некоторую дилемму. Как всякие левые, они говорят о критике капитализма, но имеют в виду прежде всего западный капитализм. А в этом случае вся работа социальной критики, которая связана, с одной стороны, с критикой путинского режима как инструмента разнузданного обогащения власть предержащих и их семей, а с другой, с необходимостью исторической критики и правовой оценки советского прошлого, оказывается совершенно бессмысленной.
Лишь в немногих текстах левых интеллектуалов в России я вижу современную модель критики, которая сочетает либеральные ценности с повесткой социальной справедливости. Большая работа в этом направлении проводилась теоретиками в Шанинке. Это для меня и есть левая мысль – попытка утверждения и обоснования идеи справедливости в демократическом обществе. И в отношении советского прошлого, и в отношении современности, и в отношении будущего.
Проблема же левой мысли в России в том, что она не срабатывает уже в точке понимания справедливости в отношении советского прошлого и тем самым скатывается в ностальгический дискурс в отношении советского.
T-i: То есть получается, что, условно говоря, бороться с режимом нынешним как бы невозможно, не учитывая его истоков. А исток его, тем не менее, все-таки находится в советском прошлом?
НП: Тут возникает очень важная проблема для политической философии. Ведь путинский режим — это, конечно, порождение современного глобального капитализма. Причем, возможно, в его радикальной форме, которая даже не задумывается над вопросом социальной справедливости, но при этом использует не только риторику советского патернализма, но и соответствующие практики государственного распределения и авторитарного контроля. То есть этот режим одновременно укоренен и в советском прошлом, и в капиталистическом настоящем. В этом его новизна и близость авторитарному капитализму Китая и прочих авторитарных режимов. И поэтому распространенные методологические модели социальной философии сталкиваются с проблемами его описания: если его начинают описывать в характерной для левой критики понятийной сетке неолиберализма, из поля зрения исключается его советская составляющая и советские истоки этого режима. Но столь же проблематично рассматривать его как простое продолжение советской системы, как некое вечное возвращение «советского человека».
T-i: Есть ли какая-то альтернативная теория, снимающая это противоречие?
НП: На мой взгляд, основой для анализа может выступать идея «либерального социализма», которая исходит из неразрывной связи свободы и справедливости. Совсем недавно в русском переводе вышла книга Акселя Хоннета «Идея социализма», которая как раз обосновывает эту связь. Хоннет – представитель третьего поколения Франкфуртской школы. Он был учеником Хабермаса и директором Института социальных исследований во Франкфурте. Его работы о проблеме признания, солидарности, свободы и справедливости развивают концепцию либерального социализма. В постсоветской России этот круг идей практически не получил развития. Да и в прежние периоды интеллектуальной истории сочетание идеи социальной критики, социальной справедливости и либерализма можно встретить лишь у немногих политических философов, большей частью правых эсеров и кадетов: у Марка Вишняка или Сергея Гессена.
T-i: Нужно много времени, чтобы изменилось сознание и чтобы начал меняться дискурс политической философии. Получается, что у нас нету, условно, философского ресурса для борьбы на уровне идей?
НП: В России борьба на уровне идей почти всегда заканчивается властными репрессиями против оппонентов. Но тем важнее не терять из виду философское измерение анализа. Когда я с коллегами задумывал сборник «Перед лицом катастрофы» и приглашал к участию авторов, я как раз просил их сформулировать в философских понятиях общее видение происходящей катастрофы, не ограничиваясь комментированием ленты текущих новостей. С тем, чтобы создать альтернативу идеологическому официозу и предложить действительно иной взгляд: не просто на уровне журналистского расследования, а именно в плане формулировки альтернативного понимания и анализа ситуации.
T-i: Вы начали с того, что те философы, те гуманитарии, которые оказались сейчас на Западе, будут вынуждены работать не в пространстве русского языка. Но если говорить о языке философии, то это ресурс для политического языка, для политической борьбы, без которого невозможно будет вести цивилизованную полемику. Уровень же общественной дискуссии показывает, что сейчас уже этого языка нет, что люди бессильны аргументировать свои мнения. Получается, что мы не можем не продолжать писать философские тексты на русском языке?
НП: Конечно, без философской работы с понятиями невозможен не только политический дискурс, но и вообще какой-то внятный публичный разговор о фундаментальных вопросах, которые касаются сейчас каждого из нас: вопросах о степени и модусе нашей вовлеченности в происходящую катастрофу и о возможности ответственного суждения об этом. Полемики в соцсетях для этого совсем непригодны в силу запредельного эмоционального накала, который практически не оставляет места для дифференцированного высказывания. Этот накал понятен и, в сущности, оправдан. Но он приводит к тому, что любая попытка рассуждения о понятиях ответственности и вины заканчивается взаимными упреками и обвинениями.
Конечно, такая работа и невозможна в рамках фрагментированной коммуникации в соцсетях. Для этого нужна преемственность философской рефлексии, которая была бы свободна как от диктата власти, так и от диктата публичной сферы. В России философия то и дело становилась жертвой одного из них. А если, цитируя Гегеля, эпоха не находит выражения в мысли, если она остается не отрефлексированной, то она как бы проваливается в небытие, не оставляя следов в сознании современников и потомков. Что, в общем, и обрекает нас на вечное и бессмысленное повторение опыта, который не доведен до отчетливости понятия.
Если мы говорим о семантике философских понятий в русском языке, то мы сплошь и рядом сталкиваемся со следами такой фрагментарности даже на уровне слов, когда каждая новая философская мода приходит как будто на пустое место. Мы говорим сегодня о «персональной идентичности» и не видим связи с «тождеством личности» Локка или «философией тождества» Шеллинга. Мы говорим о «публичной сфере», но не узнаем в ней прежней «гласности» и «общественности». И это касается вовсе не только переводов. Писать философские тексты на русском языке – это значит, в первую очередь, осознавать эту постоянную угрозу преемственности рефлексии и ее причины: интеллектуальные, культурные и политические.
Именно поэтому, кстати, мне было так важно издать сборник «Перед лицом катастрофы» на русском языке, хотя проще было бы его издать по-немецки или по-английски. Важно, чтобы эта рефлексия состоялась на том языке, на котором сейчас отдаются приказы об обстрелах и бомбардировках украинских городов, чтобы внутри этого языка укреплялся интеллектуальный ресурс сопротивления.
T-i: Чтобы закрепить те усилия, о которых вы говорите, нужны институции. Ведь всей этой работой осмысления опыта не может заниматься человек, который иммигрировал и работает там бог знает кем, в свободное от работы время списываясь со знакомыми в «Телеграме» или сидя в «Фейсбуке». А сейчас многие релоцированные ученые вынуждены заниматься именно этим. Можно как-то изменить эту ситуацию?
НП: В России на протяжении ее истории институции, занятые философской работой, чуть ли не каждые десять лет подвергались разгрому и идеологическому подавлению. Поэтому обеспечить преемственность рефлексии почти невозможно. А ведь без нее не сможет формироваться сознание субъектности в публичном пространстве. В эмиграции ситуация иная: там нет таких угроз и имеются все условия для самоорганизации. Совсем недавно в Париже стараниями уехавших философов и гуманитариев по инициативе философа Юлии Синеокой был создан «Независимый институт философии» как зарегистрированная общественная организация, которая как раз и ставит целью институционализировать процесс философской рефлексии. Но есть другие проблемы: сложно создать стабильный форум дискуссии в силу территориального рассеяния участников и необходимости искать работу в новых условиях. Через какое-то время найдутся возможности интегрировать эти инициативы в академическую систему Запада, включая, конечно, и Израиль, Австралию, Японию. Но это уже не будет связано с работой внутри российской интеллектуальной традиции, а скорее станет частью Russian studies, потребность в которых будет тем больше расти, чем сильнее Россия будет превращаться в «закрытое общество».
Читайте на нашем сайте цикл интервью «Есть смысл»: Евгения Вежлян беседует с представителями гуманитарных и общественных наук.
Михаил Соколов: «Призма, сквозь которую сейчас смотрят на Россию, — это война»
Ирина Савельева: «Надо было видеть мир за пределами своей хижины»
Олег Лекманов: «Спасает безнадежность нашего положения…»
Виктор Вахштайн: «В России мера влиятельности ученого — это мера его виновности»
Евгения Вежлян 31.07.2023

