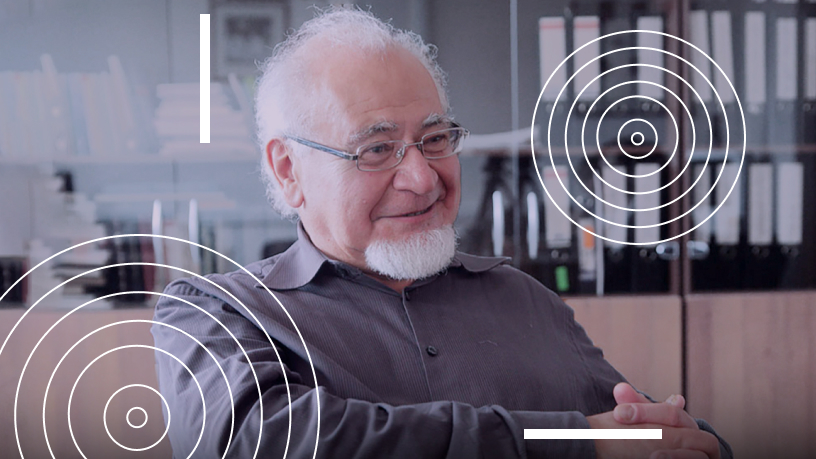
Филолог Борис Гаспаров, профессор Колумбийского университета, пишет книгу о раннем немецком романтизме и не планирует возвращаться к истории русской культуры, однако называет себя «заинтересованным читателем советских газет». В интервью T-invariant он объясняет, почему нынешняя эмиграция интеллектуалов больше похожа на немецкую в 1930-х, чем на «философский пароход», и дает надежду, что нынешний повседневный «клоачный язык» уйдет, как когда-то ушел «советский» русский.
T-invariant: Как вы встретили 24 февраля? Это наш традиционный вопрос, тут даже год не нужно уточнять…
Борис Гаспаров: Я был в Сантьяго в Чили, мы поехали на каникулы в чилийское лето, первое путешествие после ковида. Были на семейном дне рождения, большая семья собралась. Дети затеяли шумную игру во дворе. И тут кто-то спросил: «А вы знаете, во что они играют?». Оказалось, в войну русских с украинцами. Это было 24 февраля.
Что сказать? Я должен был ехать преподавать в НИУ ВШЭ СПБ, тоже впервые после ковида. Естественно, этого не произошло. Я тут же написал письмо о своей отставке и протесте против происходящего. Вышел из всех комитетов, коллегий, советов и с тех пор ни в какой жизни в России не участвую.
Я был одним из создателей гуманитарной программы петербургской Вышки. Она началась в 2015 году с невероятным успехом, привлекла сотни студентов. Огромный был резонанс, и команду мы собрали международную, первоклассную. Сейчас там очень мало людей осталось: уехали. И в московской программе тоже почти никого не осталось.
T-i: Как отреагировали на ваш уход коллеги и начальство?
БГ: Очень вежливо и доброжелательно. Человеческие отношения не прервались, но они понимают, что для меня внутренне невозможно участвовать в проектах в России или связанных со страной.
Борис Михайлович Гаспаров — филолог. Родился в 1940 году в Ростове-на-Дону, где и получил филологическое образование. Окончил гнесинский институт по кафедре музыковедения. С 1968 по 1980 годы работал вместе Юрием Лотманом в Тартуском университете. Один из постоянных авторов и редактор «Трудов по знаковым системам». В 1980 году переехал в США. В настоящее время работает в Колумбийском университете.
Аверинцев писал, что «Филология есть искусство понимать сказанное и написанное». Но Борису Гаспарову понимать только «сказанное и написанное» всегда было мало. Он сопрягает с «написанным» музыку, историю, быт. Потому что слово находится с ними в постоянной связи, и только таким образом можно прояснить смысл написанного. Гаспаров охватывает огромный смысловой объем: от «Слова о полку Игореве» (на русском языке) до гипотезы существования и развития языка (изложенной на русском и английском) и размышлений о русской классической музыке (на английском). И внутри этого объема «искусство понимать сказанное и написанное» обретает новую силу и глубину. Ред. T-invariant.
T-i: Мы знаем, что вы готовите новую книгу и она также никак не связана с Россией. Расскажите о ней, пожалуйста.
БГ: Мне очень повезло. Я не представляю, как бы я сейчас как ни в чем не бывало продолжал заниматься своими делами, связанными с русской культурой. У меня был проект о философских основаниях социалистического реализма и другие темы. Но я абсолютно не могу сейчас это продолжать.
Я исподволь готовил совсем другой проект. Он потребовал долгой подготовительной работы, чтения огромного количества источников, научной литературы, в основном, немецкой. И вот оказалось, что я занимаюсь проектом, который никак не связан напрямую и даже косвенно с русской культурой, и тем самым является для меня терапевтическим.
То, что теперь называют «ранним романтизмом» 1790-х годов, сильно отличается от романтизма ХІХ века. В Германии это явление представлял Йенский романтический кружок, в котором главную роль играли братья Шлегель и Новалис. Я пишу именно о философских основаниях этого направления, о тех философских принципах, которые поставили их в оппозицию, с одной стороны, рационализму эпохи Просвещения, который испытывал кризис и уже уходил, а с другой стороны, — поднимающейся волне идеалистической философии и позднего романтического самосознания с их опорой на субъективное сознание и на национальную традицию. Йенские романтики были абсолютно лишены националистического духа. У них было типичное космополитическое самосознание XVIII века.
Главная идея книги. В чем сходились Просвещение и идеалистическая философия? Они представляли себе некий абстрактный образ познающего разума как целостную интеллектуальную силу, которая обладает внутренним когнитивным единством, целеустремленностью к познанию. Название моей книги «The Subject Dethroned» («Свергнутый субъект»). То есть субъект изгоняется с трона, на который он сам себя поместил. Мои йенские романтики относятся к процессу познания как к процессу совершенно человеческому. Это бесконечное переплетение, столкновение и слияние одновременно размышляющих разных умов, разных ходов мысли. Каждый отдельно взятый субъект, это не Субъект с большой буквы, а агент общего когнитивного процесса. Его мысли никогда не являются только его мыслями. В них вливаются, их наводняют мысли других людей. Сознает он это или не сознает, присутствуют эти люди рядом или присутствуют только в памяти. Поэтому процесс познания не может быть ни полностью целеустремленным, ни единым. Вот такая идея переплетения бесконечного множества альтернативных линий. Противоречия, отклонения от ранее намеченного пути постоянно возникают в этом процессе. Это его конституциональные свойства, а не внешний шум, мешающий познающему уму. Парадоксально, что именно таким образом познающий ум ставит себя наравне с миром, который он познает. Миру тоже свойственны столкновения, нестабильность, ненадежность. Такая стратегия познания воспринимает свойства того мира, который она стремится познать, а не оставляет их в стороне как что-то ему чуждое.
Йенские романтики весь XIX век и часть XX имели репутацию людей, у которых не все в порядке с логическим мышлением, которые почему-то так фривольно обращаются с универсальными законами логики, познания, прогресса науки. А во второй половине XX века в связи с подъемом постмодернизма они вдруг стали необычайно популярны, и в них увидели союзников деконструктивистской критики. Что, отчасти, верно. Но есть и отличия ранних романтиков от критики тотальной модели мышления в конце XX века. Постмодернизм говорил о смерти автора в том смысле, что сочинение автора открыто для самых разных интерпретаций и все они имеют право на существование. Позицию йенской философии можно обозначить как «смерть критика». Критик отказывается от своей прерогативы выступать с пьедестала и произносить свое суждение. Если, грубо говоря, самосознание постмодерна склонно считать, что «все интерпретации равно хороши», то в сознании йенских романтиков — «все интерпретации равно плохи», то есть никогда не самодостаточны. В них заложены внутренние изъяны и противоречия, их смысл исподволь изменяется вплоть до своей противоположности без того, чтобы сам критик это заметил. Но эти трещины и щели в фасаде концепции и есть самое ценное: сквозь них можно подглядеть те внутренние пружины, которые направляли когнитивное усилие. В своей работе я собираюсь также рассмотреть эти темы применительно к философии языка и теории романа. Это будет объемная книга.
Йенские романтики — группа немецких философов, поэтов, писателей. В нее входили братья Шлегели: Август Вильгельм и Фридрих, Вильгельм Тик и Новалис. Обычно начало йенского кружка относят к 1796 году, когда Фридрих Шлегель приехал к своему старшему брату в Йену. С 1798 по 1800 год братья издавали журнал «Атенеум», где были опубликованы многие теоретические работы, обосновавшие новое направление в искусстве. Конец йенского кружка обычно связывают со смертью Новалиса в 1801. Они были молодыми и дерзкими. Крепко досталось от них Шиллеру, хотя Гёте они любили. Шлегели были, скорее, теоретиками нового — романтического — искусства, которое они противопоставляли Просвещению и классицизму. Тик и Новалис — больше, практиками. Тику, в частности, принадлежит пьеса «Кот в сапогах» — пример романтической иронии. Новалису — роман «Генрих фон Офтердинген», где описаны поиски «голубого цветка» — романтического идеала. Влияние этого кружка, существовавшего всего пять лет, на последующее развитие искусства и философии — огромно. Ред. T-invariant.
T-i: Расскажите, почему новая книга играет, по вашим словам, «терапевтическую роль»
БГ: Почему я сказал, что это терапевтическая для меня работа. Романтизм вообще и йенский романтизм в частности, несмотря на его сильные отличия от собирательного образа «романтиков», находился и находится в Германии под подозрением. Его связывают с органицизмом, который, как известно, родной брат авторитарности, с культом национального духа. Все это совершенно не применимо к Шлегелю и Новалису, но дела это не меняет. Этот печальный факт говорит о том, что Германия до сих пор, почти через сто лет, так и не пришла в себя после тех 13 лет ее истории, которые имели место. Даже сейчас мои немецкие коллеги чувствуют неловкость в разговоре о романтической философии, о философском содержании опер Вагнера и т.п. Вот Просвещение – это прекрасно! Правда, именно немецкие ученые предприняли огромные усилия, чтобы реабилитировать ранний романтизм и отделить его от позднего, но если говорить о культурных стереотипах, рожденных травмой, то дело подвигается медленно. Я пишу свою книгу с осознанием того, как глубока эта травма в немецкой культурной традиции XX и XXI веков. И, как бы отвечая на эту проблему, я косвенно имею дело и с той травмой, которая только начинает открываться в русской жизни и культуре.
T-i: Вы упоминаете тему травмы в немецком обществе в новой книге?
БГ: Нет, это было бы бестактностью с моей стороны. Я преподавал в Германии. Впервые я попал туда в конце 80-х. Меня поразили молодые люди, которым было 20 лет в 1989 году. Их родители, скорее всего, были малыми детьми во время войны. Но молодые люди были полны сознанием, какой огромный моральный груз лежит на их плечах. Сейчас, наверное, нет такой остроты, но этот дух в Германии сохраняется. Та легкость, открытость миру, которую демонстрируют йенские романтики, это то, что мне хочется подчеркнуть в своей книге, это то, с чем я как бы обращаюсь к близкой мне немецкой культуре.
T-i: Вы больше не хотите заниматься русской культурой. Значит ли это, что после этой книги вы тоже будете заниматься чем угодно, только не Россией?
БГ: Трудно загадывать. Пока работы на очереди русскую культуру не включают. Дальше я собираюсь писать о музыке. Почему это так… Только что мне пришлось отказаться от публикации моих лекций о социалистическом реализме, которые были у меня несколько лет назад в Москве. Эта работа выглядит странно сейчас. Говорить сегодня об этих жутких романах, жутком сталинском времени 30-х годов как об историческом явлении, представляющем собой интересный предмет изучения, странно. Мне казалось важным показать, что двигало писателями, что вызвало к жизни эту литературу. Никакие писатели не пишут просто по команде, по телефонному звонку. Они всегда творчески отвечают на вызовы времени. Этим вызовом может быть страх, но вызов может быть и позитивным, например, желание быть частью своего времени. Нет смысла отмахиваться от соцреализма, как от нелепости. Почему соцреалистические герои воспринимали всю эту сказочную реальность как действительность? Какой поворот сознания стоял за этим? Это всё заслуживает внимания. Но как теперь об этом писать и рассуждать, когда снаряды падают?
В моих занятиях советской культурной историей я исходил из того, что это — история. Этот период закончился, и он интересен для нас как историческая эпоха, которая имела свои основания, свое внутреннее развитие, окончание, память. Именно ее окончание поставило ее в рамки, и ее стало возможным изучать как культурно-исторические явление. Сейчас такого представления нет, как вы понимаете.
T-i: То есть история перестала быть историей?
БГ: Да, мы видим, как советские стереотипы сознания живут и действуют довольно ужасным образом. И говорить о соцреализме так, как будто мы изучаем эпоху Просвещения или Романтизма, мы больше не можем. Почва ушла из-под ног. Это больше не история. А откликаться публицистически – это не мое дело.
T-i: И всё-таки я не понимаю, почему такой радикальный отказ.
БГ: Попробую объяснить. Это действительно радикально, я это сознаю. Я продолжаю наблюдать, хотя ничего утешительного не вижу. Это моя личная позиция, я не мог бы рекомендовать ее кому-то другому. У меня есть в России друзья, и человеческие отношения продолжаются. Но сейчас мы говорим о позиции ученого. Мой характер как исследователя предполагает эмпатию по отношению к изучаемому предмету. Я не занимаюсь предметом, к которому чувствую отчуждение и который не испытываю желания понять. Обязательно должно быть желание почувствовать личную апеллятивную связь, не навязывать предмету свои о нем представления, но попробовать разобраться, каким он сам себе представляется и по каким причинам. К современной российской действительности у меня этого отношения нет.
Приведу такой пример. Во времена моей молодости, когда был расцвет Якобсона и Соссюра, мы все были соссюрианскими лингвистами. А потом посыпалась бесконечная критика структурализма, в которой и я принял участие. И вот тут-то у меня возникло желание разобраться, в чем состояла соссюровская философия языка, увидеть ее источники и внутренние мотивации. То есть, пока я следовал параграфам структурной лингвистики, желания вступить с ней в диалог не возникало.
T-i: А человеческие отношения?
БГ: Я всячески помогаю людям, которые уезжают или уехали. Тут я ангажирован полностью. Люди получают пока, к сожалению, в основном временные места в университетах. Понимание со стороны университетов очень большое. Было опасение, что встречу такое предубеждение: «Хватит с нас русских, сейчас помогаем Украине». И, действительно, Украине помогаем очень много. Но при этом сохраняется большая связь с учеными и интеллигенцией из России. Двое коллег из Петербургской Вышки сейчас работают у нас в Колумбийском университете.
T-i: Ваша книга «Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования» — это своего рода ответ Соссюру?
БГ: Когда эта книга вышла в 1996-м году, я это так понимал. Но потом уже в 2000-ые, когда стал старше, я стал смотреть на столкновение структурализма и его критиков как на факт истории мысли и мне стала ясна относительность всех позиций и множественность их источников. Соссюр перестал быть для меня монолитным. Я понял, что это было наше прочтение, что мы вычитывали только то, что нам было нужно в тот момент. Это сложное и противоречивое явление. Таким же образом, мне хотелось посмотреть на внутреннюю противоречивость пушкинского времени. Для меня важно почувствовать предмет как факт истории. Исследовать реку, когда ты в ней плывешь (или тонешь), я не умею.
Борис Гаспаров. «Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования», М., 1996. Книга Бориса Гаспарова «Язык, память, образ» посвящена «повседневному языковому существованию». Гаспаров отказывается следовать установкам структурализма. Он говорит, что искать идеальную структуру, которая полно и непротиворечиво описывает язык, бессмысленно. Нужно всматриваться в то, как язык живет, как его используют люди, погруженные в коммуникативную среду. Почему в любом естественном языке такое количество исключений? Язык без исключений справлялся бы с задачей однозначной передачи информации гораздо точнее. Но естественный язык предназначен для описания неязыковой реальности, еще не ставшей фактом языка, а только становящейся, а в этом случае неизбежны ошибки, оговорки, исключения. Согласно Гаспарову, в «повседневном языковом существовании» мы используем не лексикон, составленный из слов, а коммуникативные фрагменты (КФ) — словосочетания, состоящие из одной, двух, трех, но не более четырех лексических единиц. Эти словосочетания образуются динамически в коммуникативной среде и ощущаются как устойчивые. Согласно Гаспарову, знание языка — это не умение вспомнить лексему и правильно ее просклонять, а способность применить в нужный момент набор КФ, связанный с возникшей коммуникативной ситуацией. Ред. T-invariant.
T-i: Вы развивали тему, поднятую в книге «Язык, память, образ»?
БГ: Вышла книга в 2010 году на английском языке (Boris Gasparov. Speech, Memory, and Meaning: Intertextuality in Everyday Language, Berlin/New York, 2010 — прим. Ред. T-invariant.) Я ею остался недоволен. В ней я попытался сосредоточиться на теории значения. Может быть, и не стоило этого делать. Превращать теорию в канон не в моих намерениях. Я пытаюсь открыть проблему, показать, что открываются интересные вещи, если посмотреть под таким углом. На этом моя миссия заканчивается. А позвать кого-то, чтобы за мной шли… Я сам не готов идти за собой. Поэтому и перескакиваю от одной области к другой, занимаюсь музыкой и историей мысли, в частности романтической. Но романтиками я начал заниматься 30 лет назад, начал погружаться еще в 90-е.
Вот как раз мои герои (немецкие романтики) все время вырываются из закрытого когнитивного пространства, из ловушки, из ими же самими построенного когнитивного мира, хотя в нем удобно и комфортно жить и разрабатывать его изнутри. Они хотят выбежать из него. Мне кажется, я занимаюсь тем же.
T-i: У вас получается. Вот статья о контрапункте в «Докторе Живаго». Вы берете неподходящую для анализа романа терминологию и методику. Генеральная линия партии у вас есть!
БГ: Конечно, есть! Она состоит в том, что не хочется ничему принадлежать, как только это намечается, сразу хочется убежать. Мне нравится та старая работа, я от нее не отказываюсь. Но она резкая, бьет в одну цель. Сейчас мне ближе то, что вынес Пастернак из своих занятий философией, неокантианством, из своей критики интеллектуального самодовольства неокантианства, которая привела его к позиции сознаваемой слабости, неловкости, нелогичности. Его «страдательная» версия модернизма противопоставлена Маяковскому: «Искусство не фонтан, а губка». Мне теперь ближе этот его духовный поиск, а не то, как Пастернак выстраивает архитектонически все эти полифонические или контрапунктные линии в романе.
Борис Гаспаров. Временной контрапункт как формообразующий принцип романа Пастернака «Доктор Живаго». В кн. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века, М., «Наука», 1993. В своей работе Гаспаров показывает, что «случайные», «чудесные» совпадения и встречи в романе не более случайны, чем созвучие аккорда. Судьбы персонажей и сюжетные линии образуют музыкальный контрапункт, и время романа оказывается нелинейным, сплетенным из вариаций и тем. Ред. T-invariant.
T-i: Исторические параллели — это, конечно, лукавая вещь. Но можем ли мы что-то увидеть полезного для нас сегодняшних, например, в «Докторе Живаго»?
БГ: Мы находимся внутри такого же невероятного хаоса. Но мне сейчас кажется ближе сознание немецких эмигрантов 30-40-х годов, а не внутренняя или внешняя эмиграция из Советского союза. У меня было много связей в России, я активно участвовал в университетской и академической жизни. Отчасти моя резкая реакция объясняется тем, что я воспринимаю произошедшее как мое личное поражение, страшное оглушительное поражение во всем, что мы делали последние 20 лет. Я отдавал этому делу все свои силы, откладывал все другие планы, вот и эту книгу. Результат налицо. Не знаю, что будет теперь.
Знаю, что были люди в немецкой эмиграции, которые так и не смогли вернуться в Германию после 1945 года. Томас Манн, например. Мой любимый немецкий писатель Альфред Дёблин. Он приехал в Германию и не смог оставаться там, уехал. Есть много других примеров.
Вот у меня такое ощущение, что я не смогу вернуться в Россию, я буду смотреть на людей и думать, кем они были, что они делали, что говорили “тогда”…
T-i: Вы видите параллель между происходящим сегодня скорее с немецкой эмиграцией, нежели с русской эмиграцией во время Гражданской войны 1917?
БГ: Не политически, конечно, что, мол, это новый фашизм, как нередко теперь говорят. А скорее по степени трагизма: это не какая-то вселенская катастрофа, а нечто, выросшее из нашей жизни, на наших глазах. Ситуация, которая сложилась сейчас, скорее аналогична той, что произошла в Германии. Поэтому травма, в которой мы живем и будем жить, похожа на непрекращающуюся травму в немецкой культуре. Мы видим разрушение не только своей теперешней жизни, но и своего прошлого. Вы больше не сможете смотреть на прошлое, как раньше. Хотите этого или нет, но ваше зрение корректируется, вас все время относит в сторону.
Все эти разговоры что Киев — одно, Новгород ─ другое. Это были неважные разговоры до недавнего времени. Теперь это стало жгучей проблемой. Была ли Киевская Русь корнем России? Все высвечивается иначе: культура, литература XIX века. Прицепились к несчастным стихотворениям Пушкина. Правда, в «Клеветниках России» он говорил не о польском восстании, а о кампании против России в парижских газетах. Хочется сказать, что дело не в этом стихотворении или «Бородинской годовщине». А в том, по-моему, что в Пушкине при острой современности его мысли и художественного сознания по-человечески чувствуется некоторая архаичность. Он человек XVIII века, ему было трудно встроиться в XIX век. Его личные отношения, аристократическое неприятие «не своих», игра в почвенного помещика, его взгляд на Россию тяготеют к Екатерининской эпохе. Жуковский и Вяземский больше подходили к новому веку, с его либеральной гуманностью и вниманием к отдельной личности. У Пушкина был блеск XVIII века, совершенно удивительный, но чуждый более мягкому гуманизму. Именно в силу этой своей человеческой чуждости он вошел, как кирпич, брошенный в воду, в романтизм и поставил романтические проблемы языка, внутреннего мира личности, памяти с такой невероятной остротой и жестокой критикой самого себя, с таким умением увидеть все, и себя в первую очередь, в моменты падения, в гротескном ракурсе, как это и не снилось романтикам 1820-30х годов, в общем, довольно прекраснодушным при всем их поверхностном байронизме. Мне это кажется важнее, чем вопрос, был он имперцем или прогрессистом или кем-то еще. В 17 лет он глазом не моргнув настрочил:
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
И «Клеветникам России» – это эхо XVIII века. Абстрактность XVIII века была ему свойственна. Как с этим всем пытаться разобраться в нынешнем шуме – я не представляю.
T-i: Если все рухнуло вплоть до истории Киевской Руси, то стоит ли вообще чем-то заниматься в истории и культуре?
БГ: Эта ведь только метафора: «все рухнуло». Такие выражения представляют наш духовный мир как некий материальный предмет. Но духовный мир бесконечно подвижен и не зависит полностью от нашей воли и действий. У духовного дома нет владельца. Он как воздух. И мы не властны над тем, как наше зрение меняется, когда мы начинаем видеть вещи по-другому, хотим мы этого или нет, и под другим углом смотрим на наше прошлое. Самое худшее – делать вид, что ничего не произошло. У меня есть моя поэтика, мои стихотворения, моя теория романа, я, мол, этим занимаюсь. Остальное неважно. Это проигрышная позиция.
T-i: Чтобы чувствовать дух эпохи, кого и что вы читаете? Каких лидеров мнений?
БГ: Читаю Радио Свободу, «Медузу» и «МК».
T-i: Вот уж не ожидал услышать про «Московский комсомолец».
БГ: Я всегда был очень заинтересованным читателем советских газет, чтобы понимать время, его язык.
T-i: Не могу не вспомнить про «клоачный язык» — термин, который ввел в общественное поле филолог Гасан Гусейнов.
БГ: Да, я помню эту полемику. И я вижу его повсюду, происходит невероятное огрубление нравов. Язык подворотни культивируется. Я уверен, что это не тенденция языка вообще, а сознательно культивируемая болезнь и она пройдет со временем. Как ушёл советский язык. Вот уж, казалось бы, за 70 лет настолько отравили язык всем советским, не идеологией даже, а всей идиоматикой, строем речи, всем этим духом. Казалось, что уже невозможно пользоваться этим языком. Но нет, вот создали что-то новое. То же самое произойдет и с этим «клоачным языком».
Я приехал в Америку в 80-е годы. И увидел, что не существует элементарных выражений в русском языке ХХ века для описания повседневной современной жизни: банковские операции, разные товарищества и попечительства, благотворительность, политическая жизнь. Иногда импровизировали, иногда заимствовали. Потребовалось гигантское коллективное усилие, чтобы сделать все это повседневными фактами языка. Многое было сделано. Язык ожил. Обратная сторона или побочный эффект этих усилий – бесконечные заимствования. Но язык справится с этими проблемами. Какие-то локальные терапевтические меры возможны. Но пытаться стратегически определить направление языка – это утопия, и она никуда не ведет.
T-i: Получается, язык гораздо устойчивее, чем память.
БГ: Язык меняется, обиходные выражения меняются. Наша мыслительная настроенность меняется. Позволю себе прогноз. В русском языке огромную роль играл церковно-славянский корень. И современный русский язык наводнен церковнославянизмами, многие из них были построены по модели греческого языка. Мы их встречаем в самых причудливых комбинациях с интернациональными словами латинского происхождения. Кстати сказать, это то, что разделило русский и украинский язык. Украинский литературный язык сторонился тяжеловесного церковнославянского наследства, и от этого возникла взаимная антипатия двух языковых сознаний. Русский язык смотрит на украинский как на простоватый и деревенский. А украинский язык смотрит на русский как на надутый, тяжеловесный и авторитарно-«имперский». Советское время было временем невероятно интенсивного употребления тяжеловесных славянизмов, вся эта архаическая идиоматика, религиозная по происхождению, процветала в идеологическом советском дискурсе, вполне уживаясь с интернациональной революционной риторикой. И вот сегодня вся эта грубость, нарочитая разговорность русского языка, работает, как ни странно, не только в минус, но и в плюс. Все это облегчает язык. Делает его менее напыщенным и тяжеловесно архаичным. В целом, это даже полезно, хотя приятного мало.
Вопросы задавали ЕВГЕНИЙ НАСЫРОВ, ВЛАДИМИР МИРНЫЙ
Владимир Мирный, Евгений Насыров 13.04.2023

